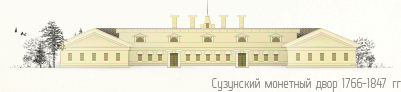Родионов, А. Особливая сибирская монета : [из истории Сузунского монетного двора (с 1762 г.)]
Тяжеловесную, даже громоздкую монету он подарил мне с легкостью богача, у которого того добра «навалом». И все на десятикопеечнике времен Екатерины Великой было на месте: и вензель градский с короной на аверсе и пара соболей с герба Сибирской губернии на обороте, и обрез монеты — гуртик — был накатан рельефно и наискосок. Одного не доставало той монете — достоверности. Год на ней был отчеканен 1767, а выглядела она так, как будто только вчера со звоном выкатилась из-под заводского штампа, и даже намека на зеленоватую патину взгляд на ней — сколь не верти денежку — не обнаружил. Все объяснялось просто — приятель вернулся из Новосибирска, где городские шустряки-умельцы организовали монетный двор на кухне или в гараже и принялись тиражировать медные деньги, выдавая листовую медь за продукт Сузунского монетного двора XVIII века.
Двор Сузунский монетный был единственным в Сибири, но далеко не единственным на окраинах империи. Ко времени его рождения, или даже к появлению замысла о нем, монету в России, кроме Петербурга и Москвы, чеканили в Перми, Екатеринбурге и Тифлисе, стучали чеканы на монетных дворах в Таврии, Варшаве и Гельсингфорсе. Да и московский двор — это не одна точка в монетном деле: утруждаются мастера-монетчики на Красном дворе, в Кадашах, на заводе Набережном серебряном и на заводе Набережном медном. И все они изготавливают монету для общероссийского хождения. Когда я вижу сегодня броневики, развозящие по Москве деньгу бумажную и металлическую, мне вспоминаются документированные подробности денежной развозки тех лет, когда в старой столице на губернаторстве сидел князь Матвей Петрович Гагарин. Молодой, но прожорливый детеныш Петра I — Петербург — требовал и требовал денег, и старушка Москва, покряхтывая покорно, запускала руку в карманы казны, чтобы снарядить очередной караван с деньгами в новую столицу. Сейчас это воспринимается как курьез, но деньги в Питер князь Гагарин отправлял бочками. Причем по точном пересчете монет — это же целая рать счетчиков. Наметывала про себя — одна сотня, вторая, третья и так далее, деньги ссыпались в бочку, в дело под надзором офицера вступал бондарь и встремлял в паз верхнего утора дубовое донышко, далее каждую бочечку обшивали рогожей и на шов по грубой ткани ложилась восковая печать, дабы ни единая полушка из бочки налево не ускользала. Караванами, караванами шла монета по России, и не только в Питер, а по всей стране. И ну-ка прикинем: от Москвы только до Барнаула почти три тысячи верст, а от Питера и того более. Правда, Алтай не ждал караванов из столиц, его монетой снабжал Екатеринбург. Но, подумать только — для содержания Колывано-Воскресенских заводов требовалось ажно 120 тысяч рублей. И коли нет еще ассигнаций, и все серебряной да медной монетой оплачивается, то какая череда саней змеилась по Сибирскому тракту, сворачивая на Тырышкином яме в сторону Барнаула! Что и говорить, коли телушка — полушка, да рупь перевоз. Дорогая денежка получалась. 120 тыс. рублей весили 7500 пудов!
К февралю 1773 г. Кабинет императорский озадачил вопросом управление Колывано-Воскресенских заводов — а ведь у вас на дворах заводских меди скопилось в преизбытке. И сколько же ее? Не все же из меди дорогой колокола лить да ендовы и прочую посуду выколачивать. А нельзя ли из той меди делать монету? А ежели нельзя, то что для этого потребно? И не построить ли при месте доброй руды новый медеплавильный завод, коему и предстоит снабжать будущий монетный двор нужным металлом, пуская его в передел? Кабинетский замысел имел под собой инженерную основу. Письмо из Петербурга всего-навсего изложило предложение Канцелярии алтайских заводов, которые в ту пору возглавлял генерал-майор Андрей Порошин. Это за его подписью от 11 сентября 1762 г. ушло в столицу донесение, где предложено было конкретно: «...Для избежания всех дальних несходств и казенных убытков не соизволено ли будет приказать отправить в Колывано-Воскресенские заводы из Екатеринбурга надежную персону и с нею несколько мастеров, с потребными для того перепечатания инструментами, чрез что, по отдаленности тамошнего места <…> кажется, не малого казенного убытка, а при тамошней народной тягости миновать можно будет». Генералу Порошину для начала дела не хватало только письма из Кабинета и как только оно легло на его стол, тут же кликнул членов заводской Канцелярии, составили ответ в столицу, предварительно рассчитав златосеребряную подоплеку монетного производства, не забывая об особенностях алтайской меди: «...оную медь в простую медную монету шестнадцати рублевого в пуде весу употребить не токмо убыточно, но и сожалетельно, ибо в ней немалое число серебра и знатная частица золота...» Выход из такого положения инженеры барнаульские предлагали простой и убедительный: «делать из пуда той меди по сорока рублей». То есть получалась монета с характером своим — сибирским. В России тогда из пуда меди чеканили кругляшей на 16 рублей. Но и защиту новодельных монет обдумали в Барнауле: «...для избежания всяких неистовых плутовских вымыслов к напечатанию из той меди разного сорта денег учредить штемпели с особливыми от прочих денежных штемпелей знаками и оным деньгам ходить только в Сибирской губернии, начиная от города Тары далее в Сибирь до Иркутска, Нерчинска и Камчатки».
Порошин, прежде чем отправить свои предложения в Петербург, распорядился провести ревизию всей наличной меди, а также той, что выходила при очистке купферштейнов и блейштейнов , и вышло, что на деловом дворе завода в Барнауле складировано 30447 пудов и 37 фунтов меди. Все умели считать в те годы — до фунтика: рачительные мужи труждались при сереброплавильном деле. По счетам шахтмейстеров, в той меди серебра содержалось 246 пудов 4 фунта, а золота 2 пуда и 37 фунтов. Знал Порошин, зачем ему такая исчерпывающая точность нужна. Рапорт его в Петербурге ляжет на стол самого президента берг-коллегии Шлаттера, а тот уже четвертый десяток лет занимается рудными делами в России и знает о рудниках и заводах все.
Шлаттер рассчитал, какая доля драгоценных металлов может попасть в будущую сибирскую монету, и предложил чеканить деньги медные по особому подходу — 25 рублей в стопе, т. е. на 25 рублей из пуда меди. И приварок для казны не забыл при этом президент. Каждый пуд меди при переделе ее в монету даст прибыль более 10 рублей, а ежели помножить на весь запас алтайской меди, то общая выгода составит 342234 рублей 78 копеек! Сегодня эти расчеты Шлаттера назвали бы техноэкономическими обоснованиями — ТЭО. С готовым обоснованием президент берг-коллегии явился на доклад к императору. Цифра прибыли была весомым козырем при беседе с Екатериной, но куда козырней был ответ на вопрос царицы: «Каким числом людей на новом заводе обойдешься?» — «Да всего-то сорок пять мастеров потребно, Ваше Величество». И еще один вопрос задала царица, разыграв забывчивость: — А каков расход на заводы те Колывано-Воскресенские? — Содержание оных по 120 тысяч рублей в год обходится... — И сколько меди надо переделать в монету, дабы удовольствовать годовое содержание? Шлаттер скорехонько прокрутил в уме цифирки, ему хорошо ведомые, и поклонился: — Из 6000 пудов меди выйдет казне достаток на 150 тысяч рублей... Ее Величество, не морща лба, сопоставила 342 тыс. рублей и 45 мужиков, которые эти тысячи обеспечат. И тут же распорядилась готовить именной указ, в коем повелевалось: «...Вся получаемая серебристая и золотистая медь <...> по причине великих неудобств, трудностей и иждевений в перевозе оной сюда (в Санкт-Петербург. — А.Р.) <...> повелеть Е.И.В. Кабинету всю ту медь переделать там на месте в особливую медную монету: гривенную, пятикопеечную, грошевую, копеечную, денежную и полушечную, с таким, для различия от прочей, изображением на них герба царства Сибирского...»
Указ именной Екатерина II подписала 7 ноября 1763 г., а через четыре дня последовал указ Сената, где было определено уже практическое действие: «Разного звания к делу сей монеты потребное число мастеровых людей и инструментов велеть немедленно и с крайним поспешением отправить из Екатеринбурга на Колывановоскресенские заводы...». Указы нужные явились, и дело загудело: питерские гравировальщики при монетном дворе под присмотром вонзили инструментальную сталь в железо будущих матриц и контрпуансонов, чтобы в краткие сроки приготовить самую важнейшую часть будущего монетного двора — штемпели, а в Екатеринбурге не в развалку, а на скорой ноге принялись готовить плашильные, обрезные, печатные и гуртильные станы, подбирая к ним все железные инструменты и приспособления. Но основным подбором для екатеринбургских монетчиков был жребий — кто поедет ставить монетное дело в алтайскую глухомань. Вот тут-то и почесали репу уральские минцпробпреры и минцмейстеры: отправить лучших — свой двор оголить! И пожадничали екатеринбуржцы-монетчики, чем и зающили затяжку в пуск нового монетного двора — перевели учеников в ранг служебный повыше, назвали их подмастерами, да и, положив им новые оклады, отправили в декабре 1763 г. 29 мастеровых в Сибирь, для них маловедомую. Ведь неизвестно еще — где заводишко тот новый в небо дым пустит. Одновременно с уральскими хлопотами забота о строительстве нового завода и монетного двора при нем собрала на консилиум при Канцелярии заводов всю инженерную мысль рудницкую и заводскую колыванскую, змеиногорскую и барнаульскую. На дворе январь 1764 года. Консилиум единогласно приговорил — монетный двор при Барнаульском заводе не ставить. Он отнимет столько сил, что выплавку серебра придется остановить, а этого просто не может быть. Раздавались голоса — да вот ведь новый завод ставится уж полгода — Павловский... Но предложение это отмел в сторону генерал-майор Порошин: — Всем ведомо — Павловский ставится, чтоб закрыть прорехи, учинившиеся с закрытием завода Колыванского. Поставим при Павловском монетный двор, прореха так и будет зиять. А на Космале более 8 водяных колес ставить невозможно, запас воды ежегодно мал. Нет, господа офицеры, пораскиньте умом — где лежат медные руды еще не добытые — при них завод надо замышлять. Руда нам главный советчик. Новый монетный двор, предварительно назвав его Колыванским, решили строить поблизости от Барнаула, и уже в январе 1764 г. партия горных офицеров под руководством маркшейдера Бахирева выехала на осмотр правобережья Оби, а точнее — к устью реки Ини. Обмозговали положение берегов на листе мастера и поставили крест на Ине — низок берег, пруд будет маловоден, а на новом заводе потребно крутить не менее 15-ти колес. Да и материалом каменным, потребным для строительства печей, окрестность скудна, так же как скудна она и на залежи глины огнеупорной. Решение консилиума при Совете главной Канцелярии оставалось подвешенным до апреля, пока Бахирев не встретился с крестьянином Малышевской слободы Зайцевым. Он-то и рассказал маркшейдеру, что по берегам речки Сузун, она пониже Ини верст на 30 в Обь падает, изобильно и камня (под деревней Бобровской), и глины (под деревней Лушниковой), а лес там — сосна красная! Сосны там, можно сказать, безвыходно, и всякий завод поставить из нее доступно... Бахирев проверил сведения Зайцева, выехал на место и доложил Канцелярии: «...вниз по реке Оби на речке Нижнем Сузуне, водами и лесами место изобильное... а от Барнаульского в 127, от Новопавловского завода в 76 верстах». Не мной сказано: спроси природу понятливо — и она ответ даст верный, безошибочный. Так и с заводом Сузунским. Совсем недалеко от устья Сузуна Нижнего — торчит в левобережье Оби каменный выступ, ниша которого — по главной реке хоть до устья сплавляйся — ничего подобного не встретишь. Это каменное крыло кристаллического тела Салаирского кряжа посылало привет изыскателям. Здесь древнекаменный кряж нырял под рыхлое одеяло Великой Сибирской низменности. Есть подобные выступы по обскому правобережью и в окрестностях Сузуна. И медь, тоскующую без передела на барнаульском дворе, сюда по санному пути доставить не составит особого труда. Даже не сравнишь с тем, каких трудов стоит перевоз руды из Змеева до Барнаула — триста верст с гаком. Нужны будут на новом заводе свинцовые руды — вот он, Салаир, рядом. Вся сырьевая ситуация была за Сузун. Бахирева определили уже в канун апреля управляющим строящихся монетного двора и завода, придав ему помощников: защателя, комиссара, бухгалтера и писарей. Хоть и не густо населены берега избранной речки Сузун, но государству новое заведение караулить надо. Прислали из Барнаула офицера и два десятка солдат. В мае, едва отбуянило половодье, началось строительство завода под смотрением самых опытных офицеров. Тут Порошин, не уподобляясь уральцам, не жадничал, отрядил руководить всеми работами по вододействующим механизмам Дорофея Головина, а плотинные работы доверил вести создателю барнаульской гидросиловой системы мастеру Роману Латникову.
* * *
Заскрипели колеса по дорогам не очень накатанным и обустроенным. С Ирбинского завода — аж за Салаиром расположен! — доставили пружины для прорезных станков. Пошли разного рода металлические изделия с Томского завода. Месяца полтора-два проведя в дороге, прибыла в Сузун команда из Екатеринбурга — станки доставила для производства монет. К этой поре уже выкладывали плавильные печи и горны четыре десятка мастеров, прибывшие в Сузун из-за Оби — с Павловского завода.
В ноябре 1764 г. Бахирев рапортовал в Барнаул: «1. Построены... плотина, гермахерская (плавильня) на 12 горнов, также плащильная, молотовая и прорезная; кроме внутренних машин фабрики построены в готовность». Пусть не смущает читателя разноголосица: строят монетный двор, а Бахирев докладывает о фабриках. Несколько фабрик, где каждая выполняет определенную операцию — в совокупности и есть монетный двор, на входе в который — сырая медь, а на выходе... С выходом готовой монеты пришлось потерпеть...
В конце марта 1765 г. прибыл в Барнаул, а затем вместе с генералом Порогиным в Сузун титулярный советник Иван Марков из Петербурга. На столичном монетном дворе он занимал должность минцвайдера, т. е. руководил всем денежным производством и прославился среди монетчиков империи как изобретатель изложниц для разливки серебра в процессе передела его в монету. Но в Сибири собирались чеканить монету медную, и опыт обращения с этим металлом у Маркова тоже был. Потому и рекомендовали Маркова Порошину как человека, который поставит дело, основываясь на опыте работы Петербургского и Екатеринбургского монетных дворов. Что касалось медеплавилен, то их на Алтае уже научились строить, и Сузунская была пятой по счету. Ее строительство для советника Улиха никакой сложности не представляло, и гермахерские горны нашли свое место в нововозведенном корпусе, и медь уже была привезена в Сузун, чтобы ее расплавленная плоть была разлита в штыки . Готова была медь расплавиться, и генерал Порошин по-хозяйски обошел почти готовые и завод, и все фабрики, руки потирая — вот-вот застучат чеканы по нарезанным кружкам меди, и пойдет, пойдет потоком готовая монета сибирская!.. Какие-то неотложные дела оторвали Порошина от пуска монетного завода, и он 12 июня 1765 г. покинул Сузун... А через четыре дня курьер доставил генералу в Барнаул депешу, Марков сообщал о пожаре в Сузуне: «...оный учинился июня 14 дня пополудни в начале 2 часа, и усмотрено, что над расковочной фабрикой горела драничная кровля, и потом вдруг вся монетная фабрика от великого ветра занялась, а потом и гермехерская плавильня, и так обе фабрики и лари водоподводящие до половины сверху и вновь к монетной фабрике недостроенные пристройки сгорели в короткое время...» Такой беды ни Бахирев, ни Марков, да и никто в Сузуне не ожидали, как не ожидали несчастья две сотни заводских служителей и восемьсот приписных к заводу крестьян, труд которых огнем и ветром уничтожило дотла. Однако же и поборолись строители — спасли самое важное: монетные станы и к монетному делу пригодные инструменты. Но крестьянам от этого легче не стало. Они свое дело выполнили, дома в Малышевской слободе пора сено ставить, а там и страда ржаная, пшеничная подступает. Но власть горнозаводская крестьян по домам не отпустила. Снова зашиткали, засновали пилы в Сузунском бору, кряхтя сучьями и жалуясь небу каждой зеленой веточкой, падали на лесной подзол сосны, чтобы лечь в стены новых фабрик и крепостных стен. А крепость-то зачем? Уже и Джунгарская кочевая империя рухнула — утопила ее в крови Поднебесная. А припасы, а медь, а готовая монета? Их караулить надо. Вот и крепость ставится. Для Маркова задолго до пожара прояснилась еще одна важнейшая заморочка в деле. Он устроил прибывшим из Екатеринбурга мастеровым своего рода экзамен и понятно стало — понятней некуда, — что уральцы такие присланы, что «по знаниям своим не в состоянии того дела производить». Экзамен высветил: на Урале ты был учеником, а в Сузун послан подмастером, был там подмастерьем, а послан как мастер. Послепожарная пауза позволила Маркову выправить положение — посланная им в Монетную канцелярию Петербурга депеша убедила столичное начальство послать в Сузун «к резному делу двух учеников, довольно знающих в рисовке и резке... И одного совершенно знающего инструментальное дело исправлять». А из Барнаула Марков запросил детей мастеровых, чтобы обучить их пробирному делу. Сибирская монета, так ожидаемая, открывала дорогу всем пожеланиям Маркова. Прислали еще 11 петербургских монетчиков и рекрутов из окрестных заводов набрали — выбирай, мастер, способных к делу. Обучение будущих монетодельцев шло одновременно со строительством.
Подготовительную черту на Сузунском монетном подвел июнь 1766 года. На реке встала плотина длиною в 147 сажен — запас воды в пруду с половодья готов! Пониже плотины, как и в Барнауле, разместилась крепость, представлявшая собой огражденную частоколом площадку размером 108 на 260 саженей со всеми заводскими сооружениями. Но главное сооружение — собственно монетный двор — был обнесен отдельным, трехсаженной высоты, забором, в котором были устроены единственные ворота. Это была крепость в крепости — средоточие дела, ради запуска которого более двух лет работали, сдернутые с пашен и лугов крестьяне из окрестных деревень. А само дело — чеканку монеты призваны были осуществлять 45 мастеровых, которых начальник двора Марков отфильтровал из рекрутированного потока людей. Кто-то попал в монетчики, но нужны были и слесари, и кузнецы, и плотники. Таковых на Сузунском монетном и при заводе к июню 1766 года числилось более сотни человек. В июне прибывшее из Барнаула начальство отстояло молебен, священники из главного барнаульского храма во имя Петра и Павла окропили освященной водицей все строения и станы, а вода-работница, теснившаяся волной у тела плотины, по команде руководителя двора хлынула под приподнятые створы шлюзовых прорезей и, разгоняясь по желобам ларей, ударила в плицы рабочих водоналивных колес. ...Началась пробная чеканка монеты. Для опыта в июне перечеканили не так уж много меди — всего-то 136 пудов. Но этого было достаточно, чтобы генерал Порошин вместе с вардейном Марковым отобрал из пробной партии по две монетки каждого номинала и отправил их в Санкт-Петербург «на апробацию». Июль ушел на то, чтобы монеты с курьерской скоростью были доставлены в Кабинет императорского двора, где Шлаттер представил их начальствующим особам, а позже самой императрице. И судьба сибирской монеты была решена: чеканить! Словцо это звонкое, окруженное соседственными вспомогательными словами указа, по водам и посуху дошло-доехало до Алтая только в сентябре — просторы, прорезаемые Сибирским трактом, хоть и измерены, но будто бескрайние. Пока фельдъегерь долетит с пакетом... На всю катушку, как говорится, монетный двор на речке Сузун заработал в конце сентября. Вычищенные и до блеска промытые чеканы поцеловали прокованную медь, и блики солнечные на теле денежном соперничали с яростью желто-багряных лесов, в сибирской бескрайности которых застучало, заработало монетное сердце Сибири. В первый год работы сузунские монетчики успели запустить в передел всего-то около тысячи пудов меди из шести тысяч, выплавленных на заводе. Денег вышло из той прочеканенной меди на 23227 руб. 52 коп. Все последующие годы Сузунский двор выдавал для сибирского хождения монет на 250 тысяч рублей, что и предписывалось императорским указом. ...А теперь самое время сказать, что же оказывалось в кармане сибиряка — какой вид имела своя, не столичной чеканки, денежка. С лица на нее глянуть — вензель Екатерины II под короной. Обрамление вензеля — лавровая и пальмовая ветви. Это — аверс. Обернешь монету — увидишь герб сибирский, но соболя на нем держат не копья, как при Алексее Михайловиче, а щиток с номиналом, где указан и год чеканки. Над щитком, под округлостью монеты, будто под сводом небесным, без видимой опоры, невесомо, но точно на своем месте, встает на медном небе корона. Причем зубчиков на той короне художник-медальер утвердил пять. Прочитаем, что за слова по кругу, ближе к краешку монеты, пущены. Значится там словесно — «монета сибирская». Да это еще не все слова на монете сибирской. По гуртику медальеры, чтобы отличку наших денег дальних от прочих российских иметь, предусмотрительно буковки накатали: «колыванская медь». Такой надписи не было только на копейке, деньге и полушке — уж больно узок поясок ребра, чтоб на гуртильном стане такие литеры в медь впечатывать-накатывать. К началу 1767 года минцмейстеры и вардейны двора убедили Канцелярию Колывано-Воскресенских заводов, а та — и Кабинет императорский — накладно по гуртику слова накатывать. За медальерами сузунскими дело не стало — по гуртику пустили косой штрих, а под царским вензелем появились литеры «КМ», что и означало «колыванская медь». Слово «колыванская» породило одно устойчивое заблуждение. Возникло оно еще на той стадии, когда власти ни в Барнауле, ни в Петербурге не знали, где будет построен двор, и в документах тех лет будущий монетный двор условно именуется Колыванским. Из Петербурга — далеко! Не видать. Кабинетским столоначальникам все алтайское — «колыванское», поскольку заводы Колывано-Воскресенские.
Из Москвы до Алтая тоже далеко, как далек год основания Сузунского монетного двора от года издания книги В.Э. Узденникова «Монеты России» (М., 1986). Там и пропечатал автор сведения о Колыванском заводе, делающем одноименную монету. Ни монеты, ни завода, деньги производящего под таким названием, в природе не было. Но «утка нумизматическая» в культурный оборот запущена, да и хорошо, что она запущена. По тому, кто и насколько верит ей, можно судить, с кем ты имеешь дело — со знатоком или дилетантом. Сибирскую монету сузунцы чеканили до 1781 года, и небосклон денежно-финансовый над всеми губерниями от Тюмени до Камчатки был, казалось, безоблачным. За это время сузунской монеты начеканили на 3,5 млн. рублей. На содержание Колывано-Воскресенских заводов Канцелярия израсходовала чуть меньше трех миллионов, т.е. казна государства еще и «приварок» небольшой получила, обеспечив бесперебойную работу рудников Богоявленского, Воскресенского, Гольцовского, Корбалихинского, Чагырского, Локтевского, Таловского, Николаевского, Золотушинского, Сугатовского, Белоусовского и Змеиногорского. В алтайской руде, если говорить обобщенно, меди содержалось от 6 до 10%. Много это или мало? Да сравните: в уральской меди — чуть более 2%. На Алтае в монетное дело шли только отходы сереброплавильного производства, в то время как, например, на Сестрорецком заводе в передел шли и устаревшие артиллерийские орудия, и прочая, пришедшая в негодность бытовая медь. Чтобы полнее представить процесс рождения монеты, не помешает назвать основные этапы передела выплавленной меди: расковка в полосы, прокатка меди до нужной толщины, вырезка кружков, прокаливание кружков и накат штрихов или надписи на гуртике, чеканка или тиснение монеты, что и означало венец делу. Сколько раз медный штык оказывался под молотом или прокатным валом — тоже можно посчитать. После нагрева в горне — под молот. Прокованную полосу снова в горн. Надо снять остаточное напряжение от проковки, иначе монету разорвет еще до чеканки. Далее полоса шла на горячую калибровочную прокатку. Остыла полоса — вырезай из нее кружки. Они еще лысые, как бы безликие. Но довольно грязные — в окалине, потому их, перед тем, как умыть, надо прожарить-прокалить на сковородке чугунной, а уж потом, протравленные кислотой и промытые водой, кружки текут чередой в гуртильный стан — ребро монеты получает лицо. Соскользнули монеты из гуртильного стана — на весы их тут же. Это калибр весовой. А вдруг толщина не по стандарту и вес у монеты лишний будет. Самая ответственная часть — попадание кружка на матрицу, что в основании рабочей части стана. Сверху на кружок безликий резко упадет, прильнет к нему на краткое время стальной пуансон с изображением царского вензеля. И настроен чеканный стан так, чтобы маточник и пуансон никогда не соприкоснулись, а родилась меж ними полновесная монета, цена которой на ее лице — аверсе — оттиснута. * * * В первые годы своей работы Сузунский монетный не обходился без питерских инженерных голов. Уж больно новое это дело для Алтая — монеты чеканить. И надо заметить, что родовые дворяне среди питерских мастеров встречались весьма редко. Пример тому — Иван Тверской, прибывший в Сузун в 1867 году. Тверской — он из «монетчиковых детей» — профессия, что называется, от батьки... Начинал он в 1750 г. пробирным учеником, а через 12 лет был переведен в пробирные мастера. На Сузунском дворе Тверской провел два года, т. е. срок вполне достаточный, чтобы подготовить из ничего не умеющего рекрута специалиста. И, между прочим, работа Тверского на Сузунском монетном зачлась ему в Москве, когда он за долговременную и беспорочную службу был пожалован в поручики, а стало быть, получил право на потомственное дворянство. Приезжие спецы на монетном дворе иссякли к концу XVIII в., что само по себе закономерно для горно-заводского дела на Алтае. Ведущую роль после отъезда в Москву Ивана Тверского на Сузунском заводе стал играть шттерфервальтер Алексей Слатин. Он своим разумением начал строить вододействующие машины для тиснения монеты 6 сортов, гурчение усовершенствовал, реконструировал семь плавильных печей, построил три завода, лазарет и школу. И под его началом деревянная плавильня в 1786-87 годах была перестроена в каменную.
Десятью годами позже в Сузуне появился очень талантливый человек — механик Поликарп Залесов. Изобретенная им воздуходувная машина пригодилась здесь для усовершенствования дутья в печах, ручную разливку меди в штыки Залесов механизировал, чем крепко сократил число рабочих у плавильных печей. Работа на Сузунском монетном дворе шла по изначально заданному ритму. Он нарушался разве что природной стихией, как это случилось в 1776 г., когда разыгралось бурное половодье. Что же случилось? Да плотинные смотрители зевнули, не подняли ночью вовремя створки в прорези ларешной, и вода пошла поверх плотины. Размыть земляную плотину дурной воде — дело двух часов. Их-то и хватило, чтобы поток воды из переполненного пруда обрушился на строение заводское и монетодельное, да так яростно, что даже унесло исковерканную чеканную фабрику вместе с начинкой — унесло потоком, шутя и играючи, фунтового веса штемпели. Покатало по изрытому потоком руслу и упокоило неведомо в какой заводи, чтобы накрыть ее в то же половодье слоем молчаливого песка. То-то будет кому-то находка через неизвестно сколько лет, когда Сузун-река станет перебирать-перемывать свои берега, и в отрыве освещенном покажутся многогранники стальных штемпелей образца того ненасытного 1776 года, когда медальерам и резчикам заводским пришлось заново резать-гравировать новые контрпуансоны, и поспешать с этим делом к тому сроку, когда будут восстановлены разрушенная плотина и покореженные фабрики.
* * *
А теперь о финансово-денежном небосклоне над Сузуном, появление тучек на котором определялось министерством финансов. За уральским пределом сибирская монета хождения не имела. На первых порах сибиряки с удовольствием обходились свойской денежкой: и жалованье получали, и при расчете в лавках, и на ярмарках — о прилавок тоже сибирской ударяли. Подати в казну платить надо — тоже сузунская в ход шла. Но вот наступил предел, когда казначейства по Сибири начали роптать. Больно много медной монеты сузунской выделки скопилось. А оттока ей нету — не ходит она в коренной России. И стали казначейства удила закусывать — платите, сибирячки, серебром! Но Сузун серебра не чеканит... Дернула казна за ту веревочку, на которой была нанизана целая гирлянда денежных отношений: крестьяне и купцы перестали продавать продукты на заводы. И как следствие образования медно-денежного тромба вспыхнул в Сибири серебряный припадок или, как говорят банкиры, — лаж, что означает — за рубль серебром стали просить медью куда более рубля. Полетели в столицу империи челобитья купечества сибирского — дайте ходу нашей монете по всей России! Но там, в столичных верхах, решили иначе. И не без учета алтайских особенностей. Ну, перво-наперво решено было прекратить чеканку монеты сибирской.
Указ от 7 июня 1781 г. предписывал перейти Сузунскому монетному на чеканку медных денег общероссийских. Но у этого решения есть своя подоплека, которую прояснил исследователь истории российских денег от Петра I до Александра I историк Александр Юхт. Вот что он пишет: «К началу 80-х годов получаемая от плавки золотистого серебра медь содержала в себе по сравнению с прошлыми годами значительно меньше серебра и золота. К тому же этой меди было недостаточно для чеканки требуемого количества сибирской монеты. А запасы высокопробной меди были исчерпаны. Добываемые же медные руды имели “содержание серебра весьма убогое” и после плавки и очистки в медь “надлежащей к монетному делу цены в себе не содержали”. Поэтому в ноябре 1781 г. решено было сибирскую монету по 25 руб. из пуда меди более не делать, а из получаемой на Колывано-Воскресенских заводах меди чеканить медную монету по 16 руб. из пуда, т.е. такую же, какая имела хождение во всей России, и теми же штемпелями, что и на Екатеринбургском монетном дворе». Перемена в монетном деле на Алтае связана не только с тем, что пошли в забоях руды бедные. Все исследователи в один голос отмечают общий упадок горнорудного дела. Выплавка серебра к 1779 г. сократилась наполовину! Сколько это в пудах составило? Были годы — вместо 800 в Питер уходило 400 пудов. Похудел серебряный караван... Укоротился на три десятка подвод. И потребовались крепкая ревизия на Алтае члена Кабинета Императорского двора генерал-майора Петра Сойменова и назначение новым командиром колыванских заводов статского советника Гаврила Качки, чтобы добыча руды, а вслед за ней и выплавка серебра взметнулась бы к высотам ранее недостижимым. При Качке на монетный двор империи отправлялось в иные годы по три серебряных каравана, что в целом составляло более 1000 пудов валютного металла в год. Сузунский монетный двор потряхивали не только перемены в ведении горнозаводского дела на Алтае. Восхождение нового государя на трон означало: стоп машина! Чеканы менять необходимо, новый вензель резчикам не стали гравировать. Впрочем, готовить новые штемпели в Сузуне приходилось и не по причине коронования нового царя. Документальная подготовка перемен на монетном дворе, самом восточном в России, шла через управляющего Кабинетом Е.И.В. В.С. Попова, далее — через генерал-прокурора Императорского совета А.Б. Куракина и еще далее — через директора Департамента горных и монетных дел М.Ф. Соймонова. А на самом верху этой цепочки — царь! Чуете — какие крайние инстанции в этом ряду? Царь — Сузунский монетный... К чести сузунских медальеров-резчиков, они справились с новым образом монеты за две недели. А вслед за «Павловским перечеканом» последовал акт вовсе неожиданный. В 1788 г. начальник Колывано-Воскресенских заводов Гавриил Качка вызвал к себе управляющего Сузунским заводом Христофора Шмидта. На молчаливый вопрос взглядом, Качка положил перед Шмидтом рисунок образца новой монеты. — Да ведь мы чеканили такую! — воскликнул удивленно Шмидт. — Не торопись... Орла рассмотри... — настоял Качка. Шмидт заелозил взглядом по крыльям державного орла. — Не выщипывай перьев — не там отличка, — опередил сузунца начальник заводов. — Перья у орла те же. Сообщено мне — господину медальеру Гедлингеру из Департамента горных и монетных дел велено было поменять абрис державы над орлом. Вот по новому образцу и пойдет чеканка сузунских пятикопеечников. Думаю, что указ этот в силе для всех российских монетчиков... Ни Качка, ни Шмидт, ни сузунские резчики штемпелей не знали и не ведали — в чем первопричина перечекана пятикопеечников. Только десяток лет спустя, уже оказавшись в Петербурге, уехавший насовсем с Алтая Качка узнал — накануне войны шведы постарались, порадели за устои российских финансов — вбросили в русские пределы окольными путями огромную массу фальшивых пятикопеечников, довольно хорошо имитировавших монеты настоящего русского чекана... Акция вброса фальшивых денег в государство противника — прием во все времена известный. Наполеон, еще не переходя границ Российской империи, сбросил в Россию фальшивые ассигнации. Пропуская промежуточные фальшивки «из-за бугра», отмечу, что этим же оружием — подрывом денежной системы, воспользовался Адольф Гитлер. Что уж говорить о родных российских фальшивомонетчиках. Читая документы XIX в. по истории наших алтайских заводов и вычерпывая из них судьбы камнерезов Колывани, я чуть ли не в каждой архивной описи наталкивался на дела о «фальшивых манетчиках...». И уж совсем недавний пример. Еще не объявлена реформа денежная 1961 г., еще броневики из монетоделательных недр столицы не выехали к банкам, а в Москве уже появились в ловких ладошках рубли нового образца... А в 1788 году сузунского начальника Шмидта начальник заводов алтайских Качка спросил: — Кому поручить новый штемпель? Подмастеру Безбородову? — Нет. Глазная болезнь — малозрительство Безбородова одолело. Он уже не так способен. За ним ученики поднялись... Трое из них подходят. Возьму, пожалуй, из рудоразработчиков Ивана Белогурова, либо школьника Вагайцева... Исправно гравируют. — А Бичтов Федор? А Максим Вахрушев? Они-то что — вовсе негодны? — Да лучше, чем у Безбородова, рука у них. Посчитай, ведь он сюда из Екатеринбурга прибыл еще в 1764 году. Бичтов и Вахрушев одногодки ему. Нет, соблаговолите приказать, чтоб молодые гравировали...
* * *
В архивохранилище Алтайского края встретился мне любопытный рапорт конца ХVIII в. уже знакомого нам Христофора Шмидта. Он сообщал в канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства о том, что на Сузунском заводе по указу свыше произведена переплавка так называемой «легковесой монеты». Дело нехитрое — из обращения выводилась монета, не подходящая для перечекана. Христофор Шмидт сообщал, что операцию он осуществил «чрез опыт». Что означало — в одном случае он плавил «легковес» отдельно, а в другом случае ссыпал его в шлейзофен и плавил вместе с передельной медью. Смысл опыта заключался в том, что надо было определить, в каком случае угар при переплавке больше. Угар хоть серебра, хоть меди, да и любого металла — это то, что ушло с дымом, иначе — вылетело в трубу. Проще сказать, угар — это убытки, потери, причем неизбежные, но регулируемые. Шмидт для контроля провел плавку монеты легковесой в присутствии всех заверенных штаб-офицеров и те подтвердили: ежели плавить монеты отдельно — угар больше, нежели ссыпать монеты в шлейзофен, где клокочет расплавленная медь. На каждый пуд монеты угар составил 12 золотников. Если не забыть, что за всю историю Сузунского монетного переплавлены были миллионы пудов меди, то каков был угар — не трудно посчитать: сотни, тысячи пудов меди взвились и вылетели в трубу, чтобы осесть невидимым пеплом на окрестные леса и поля. «Угар» оседает даже во внешних стенах серебро- и золотоплавилен. Сибирская аффинажная фабрика провела такой опыт — взяла соскобы с кирпичных стен Барнаульского сереброплавильного завода — и что же? Проанализировали, спалили на спектрометре пробу, а в ней промышленное содержание драгметаллов — злато-серебро в кирпич впиталось! Историю с опытом Шмидта я вспомнил вот для чего. Сузун чеканил общероссийскую монету непрерывно более чем на 200 тысяч рублей ежегодно вплоть до 1847 г. Четыре раза менялась стопа, т.е. из полупродуктов на Сузунском заводе извлекалось серебро. Только с 1783 по 1838 гг. здесь выплавлено 5038 пудов 11 фунтов и 30 золотников серебра. А если учесть, что кроме Сузуна серебро извлекали на Гавриловском, Змеиногорском, Павловском, Белоусовском и других заводах, то общая цифра выйдет очень значительная. И всю эту не переделанную массу надо везти в Петербург, где из серебра отчеканят звонкую монету. Но какова цена потерь при этом, когда алтайский металл попадает во владения Монетного двора в столице? Первым на эту особенность потерь обратил внимание начальник Колыванских заводов обер-бергауптман Петр Козмич Фролов.
Сотрудники краевого архива О. Дударева, Л. Ермакова и Т. Мальцева подготовили сборник «Алтайские Горные офицеры...» (2006), где и опубликовали чрезвычайно интересный рапорт Фролова министру Императорского двора и управляющему Кабинетом Е.И.В. о разделении драгоценных металлов и тиснении золотой и серебряной монеты. Где же он тиснить предлагал? Проследим, как мысль развивалась. Фролов знал подробности горно-заводского производства на Алтае с младых ногтей — его отец был выдающимся гидротехником на Змеиногорском руднике. Молодым офицером Петр Козмич бывал на Нерчинских заводах, успел потрудиться и в столице начальником чертежной экспедиции горных и соляных дел. Одним словом, поколесил по стране, но и то, что делается на Петербургском монетном — он тоже знал. Более того, с 1817 г. возглавив Колыванские заводы, обязан был знать. Это знание и отразилось в рапорте. Фролов напомнил, что содержание чистых металлов в золотистом серебре, отправляемом с Алтая в Кабинет до 1828 г., определялось по его методе, введенной в практику еще Шлаттером. Напомнил также, что пробу серебру на Алтае делают по пудовому разновесу. А на Санкт-Петербургском монетном дворе это положение отменено. «Монетный двор как при приеме, так и отпуске металлов производит пробу на фунтовый разновес...». В чем разница этих методов — увидим далее. Но главное — разноголосица в подсчетах и убытки для казны. Фролов еще в 1821 г. писал в Кабинет о потере, какая происходит в серебре и золоте, выплавляемом на Колыванских заводах, «от вышеупомянутого приема оных на Санкт-Петербургском монетном дворе на фунтовый разновес; меж тем как Монетный двор обращает оную в свою пользу. При сем имею честь представить Вашему сиятельству подробный счет о сей потере за 22 года с 1806 по 1828, когда пробование производилось по фунтовому разновесу. ...изволите усмотреть, что потери от одних проб: в серебре — 106 пуд., 3 фун. 44 золот. 42 доли и в золоте 38 пуд 22 фунта 2 золот. 88 долей на сумму 626968 руб. 10 коп., а по курсу в 1828 году бывшему — 2400711 руб. 72 коп». А дальше в оборот рапорта Фролов вовлекает тот самый пресловутый угар, о котором так пекся сузунский монетчик Шмидт. И выходило, что столичный Монетный двор на угар при разделении серебра и переделе монеты отчисляет от каждого фунта по 2 золотника, а за 22 года отчислений «набежало»: серебра 436 пудов 29 фунтов 31 золотник и золота 10 пудов 35 фунтов 6 золотников. В деньгах это составило 2051933 руб. Прибавил к этому Фролов и плату за разделение металлов — 3520000 рублей. Общая сумма «потраты и угара» составит 7972705 рублей 28 коп. И на Нерчинск не забыл оглянуться Петр Козмич: «Подобная трата и угар происходит и в серебре, выплавляемом на нерчинских заводах, соразмерно количеству оного». Чего же хотел добиться Фролов приведенными фактами? Яснее ясного, «поставляя долгом своим отвратить по возможности означенную трату и большой угар в металлах на Санкт-Петербургском монетном дворе и через то сберечь для Кабинета его величества важные суммы, из коих ныне теряются безвозвратно от угара металлов, а другие, присваиваемые Монетным двором через наблюдаемый им способ пробования…».
Исходя из приведенных фактов, казалось бы, убедительней доводов и не надо, Фролов предлагал: «Разделение золота от серебра, выплавляемого как на Колыванских, так и на Нерчинских заводах производить на первых, не отсылая на Санкт-Петербургский монетный двор. Для сей операции устроить в колыванских заводах каменные заведения. Передел означенного золота и серебра в монету производить подле самого источника: при колыванских же заводах на обустроенном для сего Монетном дворе». Далее Фролов привел в пример и Сузунский двор и «как в Америке золотая и серебряная монета тиснитца при самих источниках сих металлов». Автор национального, инженерно-грамотного проекта просматривал путь, по которому можно вести дела экономно: «золото и серебро, выплавляемое на Колыванских и Нерчинских заводах доставлять в Кабинет в виде монеты». Инженерная голова, голова государственная — Петр Фролов в своем рапорте все расчислил и готов был в два года построить в Барнауле Монетный двор, не привлекая на это денег из Кабинета, который «...получая золото и серебро в готовой уже монете, не будет нести нечисленные выше потери металлов от накладного для Кабинета способа пробования и большого угара на Санкт-Петербургском монетном дворе, несмотря на то, что операция разделения металлов в новейшее время совершилось...». Все расчислил Петр Фролов, но одного не учел — вокруг разделения серебра и золота, да вокруг Монетного двора в Петербурге кормится чиновная рать, которая и представить себе не может, что она станет делать, коли монету государственную будут чеканить на Алтае... Нет уж! Лучше по своей выгоде пробы производить, пусть и угару поболе в столице! — не угорим при теплой печке, которая выпекает денежку за денежкой повсегодно, повсемесячно и повседневно. Петр Фролов подал свой рапорт 14 февраля 1830 г. Предложения его в Кабинете одобрения не получили, поскольку главные советы управляющему Кабинету по монетному делу давал Монетный двор, а точку в деле ставил министр финансов Е.Ф. Конкрин. И ему не «по ноздри» оказалось предложение горнорудного специалиста высшей пробы. ...Фролов П.К. покинул Барнаул в апреле 1831 г. В Петербурге он получил место сенатора и никогда более горнозаводским делом не занимался. * * * Сузунский монетный после отъезда с Алтая Фролова проработал еще более пятнадцати лет. Но к 1846 году над ним нависла серьезная угроза. К этому времени Россия снова перешла на чеканку монеты с 36 рублей в стопе на 16-рублевую, что сделало работу Сузунского монетного крайне невыгодной. 24 января 1845 года управлявший Алтайским горным округом генерал Степан Петрович Татаринов получил предписание из высшего финансового органа империи, в котором говорилось о сокращении выделки монет на Сузунском монетном дворе, поскольку предусматривалось с 1846 г. отказаться от чеканки медной монеты вообще. Думали в Петербурге — обойдется Россия без медной копеечки, а на сей момент этих медяшек по всей империи накопилось безмерно. Министр финансов замышлял «уничтожить стеснение, терпимое от скопления оной в уездных казначействах...». Говоря иначе — в денежных артериях России образовались медно-тяжелые тромбы. Так и до паралича недалеко... Генерал Татаринов тут же собрал Горный совет, который взвесив все возможности рудников и заводов округа, а также Сузунского монетного, определил: запасов руды и полуготовой меди хватит еще на десять лет бесперебойной работы монетного двора. Совет в Барнауле постановил: «завод Сузунский ни в коем случае не может быть уничтожен». Правда, категоричности в решении не было, поскольку предлагали и вариант: уж коли совсем закрыть монетное дело, то мы готовы в Сузуне просто серебро плавить... Так приговорили алтайские горные офицеры, знавшие толк и в добыче руды, и в ее металлургическом переделе. Даже расчет к решению приложили, где ясные цифры были — прибыль казне от сузунского ныне по 115000 руб. в год. Оглянешься на те времена и подумаешь: курица несет золотые яйца, а ей голову отрубить готовы! Да не так ли и поныне творится? Сколько золотоносных полигонов по Сибири-матушке опустело в последнее десятилетие! И ведь не потому, что они отработаны, а по причине московского головотяпства. В 1846 году начальство Алтайского округа Сузунский монетный отстояло. Петербург решение о закрытии самого восточного монетного двора империи отменил.
* * *
...Над Сузунским монетным во все годы его редкой для Сибири работы витала какая-то роковая неотвратимость: едва он был построен в 1764 г., как тут же сгорел. Силою государственной необходимости ему была дарована судьба птицы Феникс — завод через два года был восстановлен и запущен в работу. Позже было еще несколько пожаров, но нерешительных. ...Решительно и окончательно монетный двор на реке Сузун сгорел в 1847 г. Было чему гореть — с десяток разнокалиберных цехов и фабрик теснились на «пятачке», окруженном деревянным забором. А ворота на этот пятачок — единственные — бочки с водой и бочки пустые в них не разъедутся. Картина наутро предстала печальная: обрушенные кровли, под которыми как истуканы прокопченные замерли плавильные горны. Начальство заводское в толпе мастеровых понуро топталось за линией бывшего забора, не рискуя войти на пепелище, но всем ясно видно было — вон держат на себе обгорелые стропила не поддавшиеся огню чугунные станины — там вчера в цехе стоял токарный рокоток, резцы повизгивали... Рядом, где гуртильщики работали, идет черный силуэт большого колеса, но оно какое-то щербатое — спицы повыпадали. Гордость механиков при дворе — улучшенный станок для вырезания монетных кружков, который все ласково называли «Комар», угловато торчал из-под головешек неузнаваемой химерой — гуртильный цех, перестроенный недавно из смолистой сузунской сосны, горел и ярче, и жарче прочих строений. ...Когда стало возможным разбирать руины обугленные, монетчики смели золу и пепел с рабочих частей чеканных станов и дотянулись до самого ценного: то были штемпели с гербами и тештами, благодаря которым рождался лик монеты и ее оборот. В те же дни нашлись и маточники — определенного вида стальные эталоны, с помощью которых готовились новые штемпели, когда старые срабатывались и денежки мерные начинали терять канонический облик. Всю уцелевшую монетодельную оснастку — три десятка предметов — передали в Барнаул в Управление горного округа, где они и пролежали до 1902 года. К этой поре алтайские заводы вообще перестали дышать. К примеру, на Барнаульском сереброплавильном лесозаводчик Козлов пилил бревна. И только один Сузунский завод «дожевывал» остатки медного и серебряного производства, свезенные сюда со всех заводов горного округа, завод, слава о делах которого всего полвека назад рокотала не только в пределах империи, но и в отдаленных землях. Уцелевшие в пожаре 1847 года маточники и штемпели — числом 25 — управление заводов передало в Барнаульский краеведческий музей, где они пребывают и доныне, подтверждая тусклой сталью — Сибирь во время оно свою монету чеканила! Трудно переживали состояние опустошенности сузунцы. Столько мастеров ввергнуть в безделье! Но обморок, когда человек без дела с ума сходит, мало-помалу миновал. Завод и плавильни уцелели! И начальство заводское нашло, куда руки приложить мастеровому человеку. Как свидетельствуют записки управляющего заводом Александра Александровича Черкасова, а он провел в Сузуне десять лет (1873 — 1883), в 1850-х годах было устроено ружейное производство, для чего заранее были избраны способные слесарные ученики и отправлены для изучения ружейного дела в Тулу… В тот же период при Сузунском заводе, помимо школы грамотности, были школы столярного и резного мастерства, сузунская мебель была известна в целом крае и славилась своей доброкачественностью. Высоко смотрели сузунские краснодеревщики — за образцы они держали труды европейских художников, не стеснялись делать свою мебель по рисункам с парижских выставок. Вот тебе и глушь сибирская. Да, здесь, в глуши, выросла береза, но если ее умело высушить и умно обжечь, то она в изделии краше заморского ореха смотрится, а по крепости тому же ореху далеко не ровня. Но была еще одна особенная область сузунского бытия, где выплеснулась душа творческого мастерового человека. Это иконописание. Резчики и медальеры монетные, как обладатели художнического взгляда на мир, не пропали в безвестности. Пожалуй, благодаря им и возникла самостоятельная, присущая только этому уголку Сибири, школа иконописи, которую искусствоведы ни с какой иной не путают, а называют — именуют гордо — Сузунская. И еще одну важную подробность жизни на Алтайских горных заводах не упустил писатель Черкасов. Говоря о сортах монет, теснимых в Сузуне, он удивлялся: «Странно, что сибирская монета, а в особенности полновесные гривны и пятаки, назывались по всей Сибири “барнаулами”, а монетки в четверть копейки народ и теперь почему-то зовет “бухонками”». Полагаю, что «бухонки» звучат загадочнее, чем «барнаулы». По всей России издавна при монетных дворах существовала служба развозки монет по стране. Сузунская монета в сибирский простор отправлялась не из Сузуна, а из Барнаула, который был центром монетного веера. Как же еще мог окрестить народ медные десятики и пятаки, признавая тем самым, что середка денежная — это центр горного округа. А вот над «бухонками» не поломал голову ни автор русского этимологического словаря Фасмер, ни томские авторы «Полного словаря сибирского говора» (1992), ни знаток сибирских слов А.И. Федоров. Правда, некий намек все же есть. «Бухон» по Фасмеру — это вид хлеба, а поскольку четвертушка копейки была мелка и толстовата, то она напоминала собой малый хлебушек. Это и определило уменьшительную форму слова. Ласковость названия «бухонка», видимо, отсюда и проистекает в живую речь, строящуюся по законам сходства формы предметов, по подобию их. Но более всего — от неотъемного свойства русской речи — выразить мир образно — так, я полагаю, и возникли сузунские «бухонки»…
* * *
В Сузуне нынче следов завода почти не сохранилось. Разве что блеснет обочь дороги смоляно-черным, стекловатым блеском обломок плавильного шлака, напоминая — здесь в печах и горнах — было время! — медь клокотала. А по городам, по весям сибирским, то во дворе, то в огороде лопата вдруг упрется во что-то твердое. Окопают преграду невидимую, и окажется в руках копача глиняный горшок тяжеловесный. Смахнет рука тлен тряпичный с горловины, и глянет сибиряк вглубь горшка, будто в затяжную темень колодца времени, где на дне не звонко, но глухо брякнут полушки, копейки, пятикопеечники и гривенники в зеленотелой патине, и на каждой монете державная стать соболей не оставит сомнения — да это и есть та самая монета, сибирская, особливая.