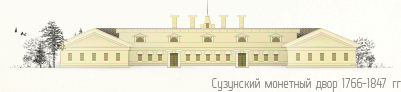СЕРЕГА-ПАРУС
В Шарчино я едва добрался на попутном тракторе. Выпрыгнул из кабины – и захлебнулся от ветра. Тут, на широкой улице села, вьюга показалась даже свирепее, чем в степи: по-волчьи выли провода, на чьей-то крыше грохотал кусок жести; снег больно сек и слепил глаза. Увязая в сугробах и бодаясь с ветром, я помышлял об одном: скорее бы попасть в гостиницу да попить горячего чая!
Вскоре я стал нагонять какой-то странный предмет, похожий на огромного воздушного змея. Распластанный по-над землей, он упорно одолевал наскоки вьюги. Приблизившись к неопознанному объекту, заметил – он с ногами. А на ногах – лыжи. Объект прекратил продвижение встречь ветра и стал разворачиваться. Наконец, прояснилось: согнувшийся в три погибели мальчишка тащил на себе жесткий парус – обтянутую брезентом крестовину. Лыжник уперся в снег палками и немного разогнулся.
– Здравствуйте, дяденька! – громко, пересиливая вой пурги, поздоровался он первым – по обычной у сельских ребят учтивости. Меня так и опалило его нажаренное снегом и ветром круглое лицо, на котором окалинками темнели веснушки. И надо же: уши и шапки подняты, а под ней – медно-красные вихры!
– Здорово-здорово, горячая голова! – ответил я с непонятной для себя растерянностью. – Как звать-то?
– Серега Никаноров. А что?
– Да так. Для знакомства. Интересная на тебе штука прилажена. – Я дотронулся до алюминиевой проволоки, которой грудь Сереги была намертво прикручена к крестовине паруса.
Крепыш смущенно разулыбался:
– Это я временно приспособил. Лямки для рук не успел пришить. С лямками-то удобно. Я уж начал пришивать, а тут задуло. Ну, я по-быстрому проволокой примотался и – сюда.
Я слушал Серегу, осматривал его снарядку, а сам унесся далеко-далеко – в свое давнее уже детство в алтайском степном селе Мамонтово. Там тоже озорует – да еще как! – пурга, а я, бывало, заслышав в печной трубе призывные посвисты, так же, как Серега, хватал лыжи и мчался на улицу кататься. О, в те годы у нас, сельских пацанов, это была неистребимая страсть – кататься, а точнее – подкатываться «зайцем» на всевозможных видах транспорта. Подкатывались втихаря на проезжавших дрожках, санях, на редких в ту пору автомобилях. Сейчас я, пожалуй, не испытаю восторга, если на проселочной ухабистой дороге – там, где грузовики снижают скорость, – незаметно для водителя догоню машину, повисну на заднем борту и, вдыхая пыль и бензинную гарь (в детстве она почему-то пахла конфетами), проеду метров двадцать-тридцать… А тогда мы проделывали это с великим удовольствием. Но особое, ни с чем не сравнимое упоение от езды я получал в затяжную февральскую падеру, в которую, как говорится, и носа на улицу не высунешь. В то ненастье я выстругал из клена лыжи (о фабричных тогда мы только мечтали), натер до блеска друг о друга и, не дожидаясь погоды, вышмыгнул на улицу опробовать снегоходы. И вот, едва я свернул на накатанную дорогу, как шквальный порыв ветра сильно толкнул в спину, затем подхватил машинально раскинутые руки и поволок, поволок без какой-либо помощи с моей стороны! Сообразив, в чем дело, я расстегнул пуговицы фуфайки и раскинул, не отпуская, полы. Скорость тотчас увеличилась. «Ура-а-а!» – закричал я, осознавая, что придумал новый способ езды – катание на ветре.
Позже, при знакомстве с всевозможными упряжками, в которые человек запрягал ветер, меня не раз согревало то, что одну из них я изобрел сам. Теперь же, повстречав Серегу-парус, я был и обрадован, и уязвлен. Выходит, мое изобретение повторили, да еще на более высоком «техническом уровне». Разве шла в сравнение распахнутая фуфайчонка с этим грубоватым, но надежным и большим парусом! В попытке спасти свое ущемленное конструкторское самолюбие я с тайной надеждой спросил Серегу:
– Ты как же, по чертежам из «Юного техника» свой парус мастерил?
– Да нет, сам додумался, – в звонком голосе Сереги послышалось снисходительное удивление. – Это же принцип буера. Чего тут такого? Ветер, чувствуете, как в спину толкает! Сегодня еще не так, вот вчера дуло! Меня как понесло, понесло – во-он на тот большой сугроб, а с него прямо на сарай бабы Дуси! Ну, дядя, я поеду. А то как бы буран не перестал.
Серега-парус поднял палки, выпрямился, и ветер, словно того и дожидаясь, легко понес его вдоль улицы. Не прошло и пяти секунд, как он исчез в снежной круговерти.
Снова пели, завывая, провода, столбы, трубы, моя шапка и воротник – все, что встречалось на пути ветру, но эту заунывную разноголосицу теперь перекрывала запутавшаяся в моих ушах морзянка Серегиных слов: «А что тут такого? Ветер, чувствуете, как в спину толкает!»
Я чувствовал… Как толкает меня ветер, как ушло вперед время, а с ним уплыло из рук мое великое изобретение, оказавшееся в глазах Сереги элементарным «принципом буера» – не больше. Да так, наверное, и должно быть.
– Счастливого пути, Серега-парус! – прокричал я, быть может, запоздало.
– …а-а-у-у-о-о! – донеслось в ответ. Но я так и не разобрал – то ли это аукала пурга, то ли что-то кричал краснолицый мальчишка с окалинами веснушек на носу.
КОШЕЧКА
В трескучем январе мне довелось поехать в деревню Федоровку за бараном для бригады строителей. Я заявился на ферму с запиской от директора, понимая, что привез смертный приговор какому-то ничего не подозревавшему барану.
Оказалось, приговор барашку вынес не я с запиской директора, а ветврач, и не одному, а сразу четверым. Около кошары стояла небольшая плоскокрышая бойня с загоном, а в ней ожидали часа выбракованные чахлые валухи. Трое были храмы, а четвертый, обреченно уставившись в стену, часто и надсадно кашлял. Выбраковку делали круглый год и ежедневно резали от двух до пяти голов – для столовой и для продажи. Не успел я достать записку, как забойщик – пожилой неразговорчивый немец свалил на соломенный пол хромого барана, запрокинул к стене его голову и вогнал лезвие ножа в баранью глотку. Баран, захлебываясь кровью, протяжно-шумно вздохнул – единственный звук, которым он выразил муку…
Наконец агония и возня прекратились и я услышал, как остальные бараны продолжали делать то, что и делали, – мерно и вкусно хрупали сенцо.
Я помог забойщику поднять тушу на колоду и уложить ее кверху брюхом.
Забойщик вынул из-за голенища валенка второй нож, достал с притолоки брусок и неспешно зацвиркал, действуя на мои и без того возбужденные нервы. Я было собрался вышмыгнуть во двор, но остался, услыхав от забойщика единственную фразу: «Что забегала, обожди минуту». Только теперь я заметил, что около ног мужчины трется великолепная, серая кошечка. Чистые, тугие бока ее сыто лоснились, зеленые глаза жмурились от явного довольства, но в приторно-сладком урчании угадывалась просьба. Забойщик скупо улыбнулся и продолжал свое дело не суетливо, но быстро. Баран раздевался на глазах. Вот его подвесили к матке и последним резким рывком сдернули шубу, будто та была не его, а ворованная. Вот тепло задымились внутренности, а кошечка еще более оживилась, заходила туда-сюда, ступая, однако, осторожно, чтоб не запачкать о кровь лапки. Забойщик вырезал селезенку и подал кошке. Та взяла аккуратно, отошла к стенке, уселась и спокойно принялась за трапезу.
– Чья это кошка? – поинтересовался я.
Забойщик отвечал односложно: почти каждое его слово стоило мне вопроса. Кошку эту принес сюда еще котенком, года три назад. Сначала убегала, а потом прижилась. Теперь других кошек сюда за версту не подпускает. Собаки тоже нос не кажут. Холодно ей? Ну, нет. Вон, посмотрите.
Покончив с селезенкой, кошка забралась на спину лежавшего барана и свернулась калачиком.
Она и ночью спит на овцах. А утром закусывает их селезенками. С овцами не пропадешь.
Забойщик шагнул ко второму барану. Зеленые узкие глаза мурки изумрудно вспыхнули…
...
 Чернов Юрий Владимирович (05.06.1937 г.р.) – писатель-натуралист.
Чернов Юрий Владимирович (05.06.1937 г.р.) – писатель-натуралист.